С высоты «афганского излома»
30 лет назад закончилась эта необъявленная война
14 ФЕВРАЛЯ / 2019
Советский кинорежиссер Карен Шахназаров в фильме 1986 года «Курьер» первым показал парня (именно что не ветерана), который возвращается из афганской командировки домой. И видит, как изменилась страна. На спортплощадке школы танцуют брейк, усы вышли из моды, на пике популярности – АББА и «Старая мельница» Николаева. На первый взгляд, что особенного в том, чтобы показать в кадре парня с чемоданчиком, боевой медалью и азиатской пылью в кудрявых волосах? До Шахназарова на это не решился никто. Как и «Холодное лето пятьдесят третьего» стало всесоюзной «премьерой» правды о сталинских посадках и хрущевских амнистиях…
Я увидел «Курьера» не в 86-м, а лет через пять, когда его запустили по телевидению. Но до сих пор помню мамин рассказ про Володю из 4-го подъезда, который прошел Афганистан, вернулся домой и имел неосторожность задеть кого-то на парковом «пляцу». А может, заступился за девушку. Кто теперь вспомнит. Володю убили хулиганы, хоронил его весь двор… Знаю еще семью, где вдова до сих пор не верит в то, что запаянный цинковый гроб – последнее пристанище ее красавца мужа. Вроде и по весу не сходится, и мысли всякие мучают…? А вдруг жив?
Это горькие вопросы и не сулящие облегчения ответы. Пока в парламентах наших союзных стран дебатируют о том, как мотивировать сейчас те 9 с половиной лет и зим, пока наши солдаты строили на чужбине социализм, минуя два или три общественных уклада, по-прежнему рядом с нами те, кто Афган прошел, десантировался с «вертушки», ел паек и колол себе «промедол»… Кто вернулся обожженным душевно и вывернутым наизнанку физически. С рабочим «Брестжилстроя» Николаем ШКУЛЕВЫМ, почти что земляком легендарного Ломоносова, мы общаемся под крепкий чай и красное вино…
Я увидел «Курьера» не в 86-м, а лет через пять, когда его запустили по телевидению. Но до сих пор помню мамин рассказ про Володю из 4-го подъезда, который прошел Афганистан, вернулся домой и имел неосторожность задеть кого-то на парковом «пляцу». А может, заступился за девушку. Кто теперь вспомнит. Володю убили хулиганы, хоронил его весь двор… Знаю еще семью, где вдова до сих пор не верит в то, что запаянный цинковый гроб – последнее пристанище ее красавца мужа. Вроде и по весу не сходится, и мысли всякие мучают…? А вдруг жив?
Это горькие вопросы и не сулящие облегчения ответы. Пока в парламентах наших союзных стран дебатируют о том, как мотивировать сейчас те 9 с половиной лет и зим, пока наши солдаты строили на чужбине социализм, минуя два или три общественных уклада, по-прежнему рядом с нами те, кто Афган прошел, десантировался с «вертушки», ел паек и колол себе «промедол»… Кто вернулся обожженным душевно и вывернутым наизнанку физически. С рабочим «Брестжилстроя» Николаем ШКУЛЕВЫМ, почти что земляком легендарного Ломоносова, мы общаемся под крепкий чай и красное вино…
Николай Сергеевич ШКУЛЁВ, командир взвода и замкомроты 3-го парашютно-десантного батальона 345-го отдельного парашютно-десантного полка. Вошел и ушел из Афгана в звании старшего лейтенанта. Родился 7 февраля 1962 года в Архангельской области, однако земляком Ломоносова его можно назвать весьма условно: все-таки до Холмогор от его родины – километров 600. Учился в Калининском суворовском училище (ныне Тверь), в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище. С 1983 года проходил службу в Туркестанском ВО, в том числе исполнял интернациональный долг на территории Афганистана. Награжден медалью «За отвагу», орденами «Красная звезда» и Боевого Красного Знамени. Был ранен, инвалид 3-й группы. Вышел в отставку в 1992 году в звании майора. Член КПСС. В 90-е пробовал себя в предпринимательстве, золотых гор не заработал. Ныне – рабочий в КУП «Брестжилстрой». Женат, двое сыновей.
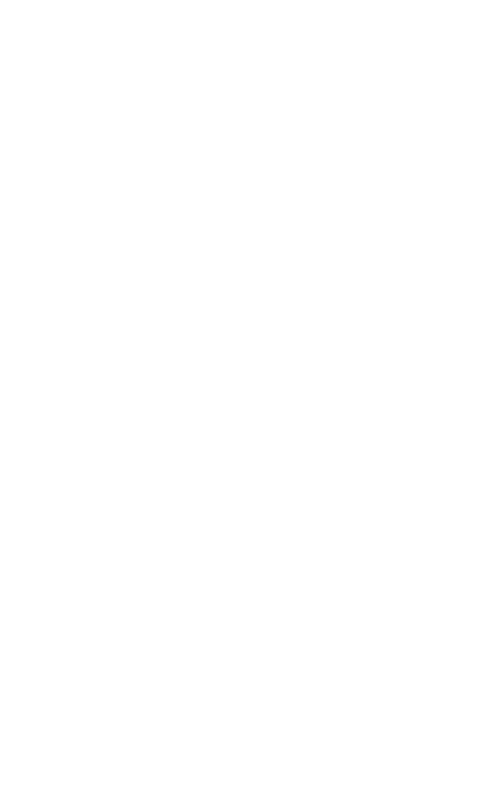
ФОТО НИКОЛАЯ ЧЕБЕРКУСА
О Кабуле и самом гиблом месте
- Служил в Баграме, это 40 км от Кабула. Рядом аэродром, штурмовики, вертолетчики. Там сейчас американцы стоят, на бывшей нашей базе. Ближе, чем на 2 км, не подойдешь и не подъедешь, все простреливается подчистую.
В Кабуле бывать доводилось, но мы там не туристами путешествовали, а на броне… Центр был довольно оживленный, базар, зелень, радио, телевидение, а на окраины мы, пойми, не ходили. В центре была государственная власть, а чуть подальше – и будет, как в присказке: Афганистан – страна чудес, зашел в кишлак - и там исчез.
Из Баграма ходили на Панджшер, через Саланг в северные провинции, через Кабул – на Джелалабад, Гардез, Хост, Газни. Хост – самое трудное направление (хотя у каждого оно свое). Это чаша среди гор на границе с Пакистаном диаметром километров 12-15, зеленка, а вокруг - горы. И высоты там приличные. Горы не контролировались правительством, там всё решали пуштунские племена. Их в знакомой среде ничем не возьмешь. Плюс наемники с той стороны, их учебные центры. Вот там для нас шла настоящая кровопролитная война. Фильм «9 рота» смотрел? А там ведь еще и вымысла добавили. То-то!
- Служил в Баграме, это 40 км от Кабула. Рядом аэродром, штурмовики, вертолетчики. Там сейчас американцы стоят, на бывшей нашей базе. Ближе, чем на 2 км, не подойдешь и не подъедешь, все простреливается подчистую.
В Кабуле бывать доводилось, но мы там не туристами путешествовали, а на броне… Центр был довольно оживленный, базар, зелень, радио, телевидение, а на окраины мы, пойми, не ходили. В центре была государственная власть, а чуть подальше – и будет, как в присказке: Афганистан – страна чудес, зашел в кишлак - и там исчез.
Из Баграма ходили на Панджшер, через Саланг в северные провинции, через Кабул – на Джелалабад, Гардез, Хост, Газни. Хост – самое трудное направление (хотя у каждого оно свое). Это чаша среди гор на границе с Пакистаном диаметром километров 12-15, зеленка, а вокруг - горы. И высоты там приличные. Горы не контролировались правительством, там всё решали пуштунские племена. Их в знакомой среде ничем не возьмешь. Плюс наемники с той стороны, их учебные центры. Вот там для нас шла настоящая кровопролитная война. Фильм «9 рота» смотрел? А там ведь еще и вымысла добавили. То-то!
Афганская байка
Был у нас во взводе снайпер по фамилии Подколзин. Высокий, худой, сутулый, под весом рюкзака и оружия сгибается. Но дело свое делал. А однажды оказалось, что он рисовать мастер. Сидим на высотке, снизу кишлак, мы наблюдаем, а он зарисовку этого кишлака делает с фотографической точностью. Даже жаль, что не попросил у него на память каких-нибудь рисунков.
О советских «вертушках» и американских «стингерах»
- «Стингеры» как раз в 1986 году у «душков» стали появляться. Естественно, основной удар приняла авиация, вертолетчики. Это те, кто нас поддерживал с воздуха: «вертушки» - транспортные вертолеты, «крокодилы» - боевые Ми-24, «грачи» - штурмовики Су-25. Летать и поддерживать нас огнем стало намного труднее, но на мужестве и энтузиазме они выполняли поставленные задачи. Допустим, транспортный вертолет и два «крокодила» прикрытия. Расчет на то, что пуск «стингера» виден, и всегда есть возможность нанести ответный удар, уничтожить врага. На боевиков это действовало.
С борта приходилось десантироваться только посадочным способом. Солдат на аэродроме или на какой-то точке загрузили, вертолет доставил на площадку, коснулся колесами земли, высадил людей и тут же ушел. Иначе могут подбить, пользуясь его уязвимостью.
- «Стингеры» как раз в 1986 году у «душков» стали появляться. Естественно, основной удар приняла авиация, вертолетчики. Это те, кто нас поддерживал с воздуха: «вертушки» - транспортные вертолеты, «крокодилы» - боевые Ми-24, «грачи» - штурмовики Су-25. Летать и поддерживать нас огнем стало намного труднее, но на мужестве и энтузиазме они выполняли поставленные задачи. Допустим, транспортный вертолет и два «крокодила» прикрытия. Расчет на то, что пуск «стингера» виден, и всегда есть возможность нанести ответный удар, уничтожить врага. На боевиков это действовало.
С борта приходилось десантироваться только посадочным способом. Солдат на аэродроме или на какой-то точке загрузили, вертолет доставил на площадку, коснулся колесами земли, высадил людей и тут же ушел. Иначе могут подбить, пользуясь его уязвимостью.
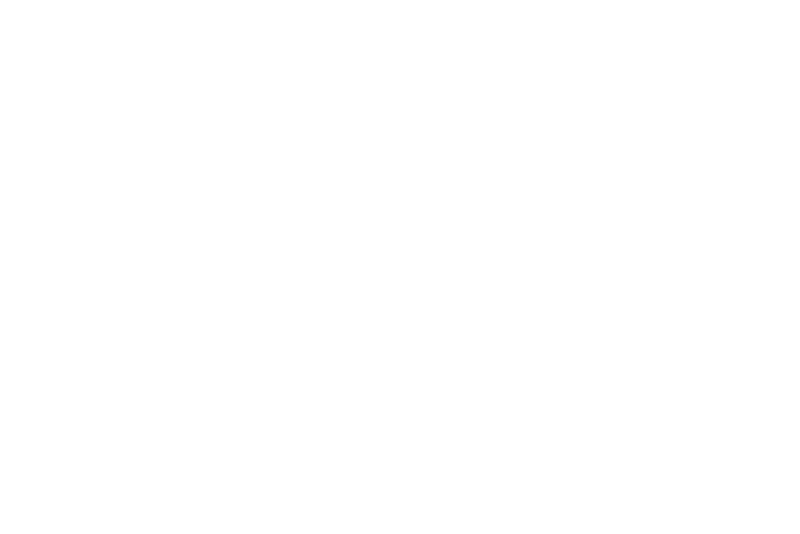 | 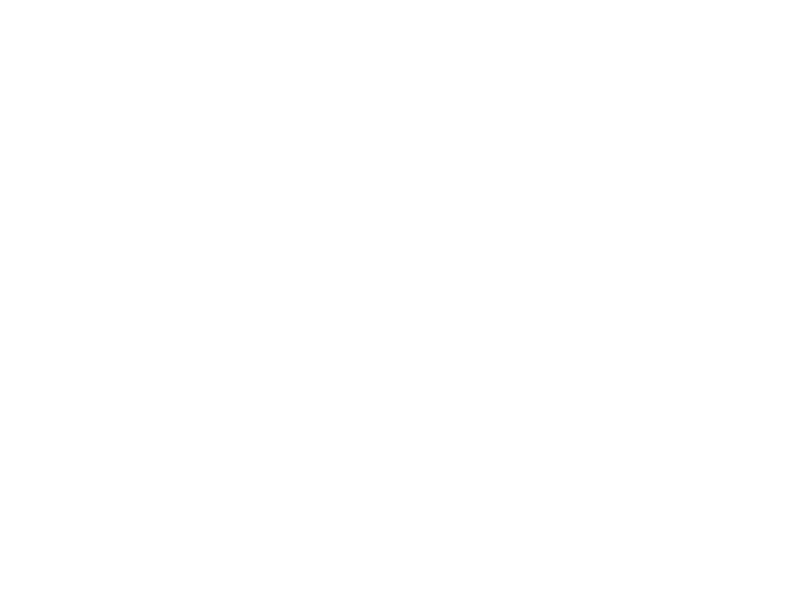 | 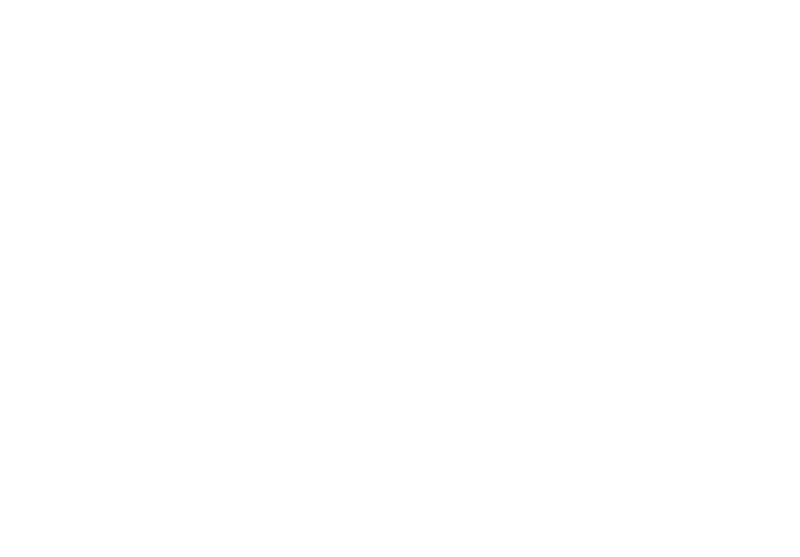 | 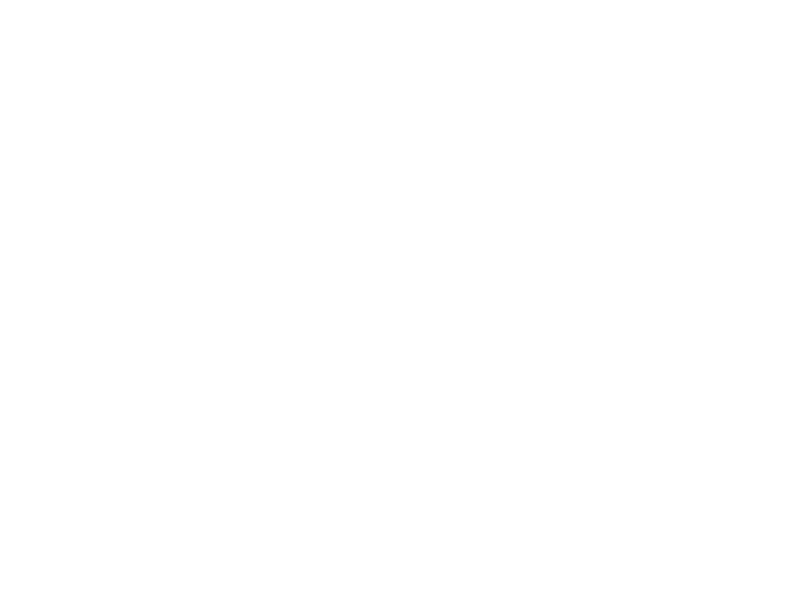 | 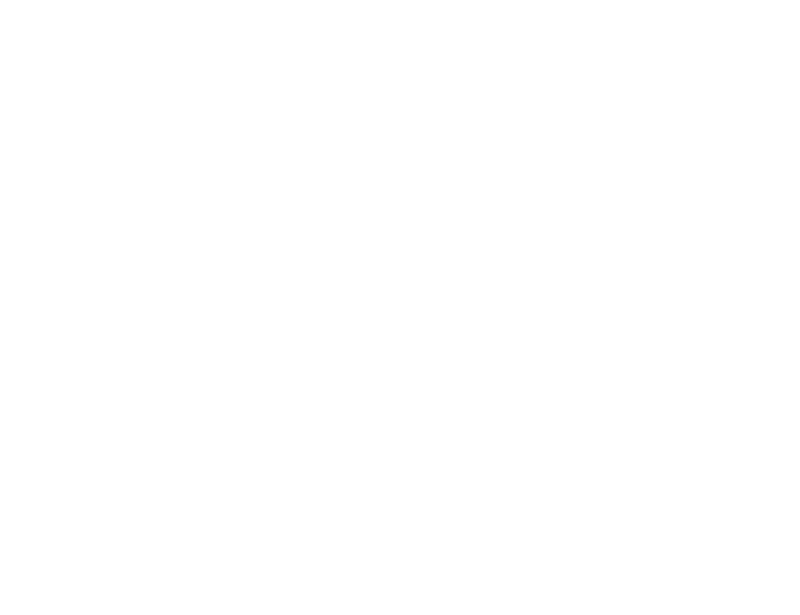 | 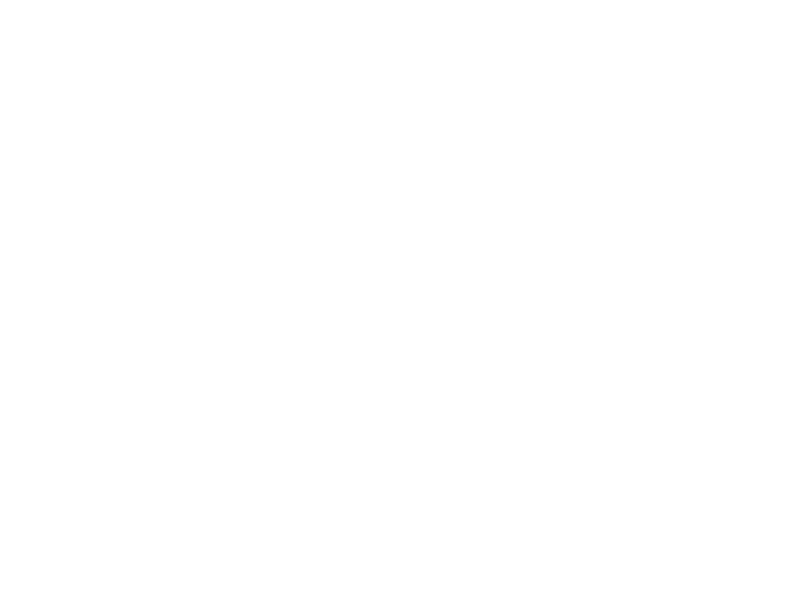 |
О страхе и опыте боев
- Испугаться может каждый. Но один испугался – и все равно выполняет задачу. А другой станет столбом…
…У меня был замкомвзвода из Львова, старшина Степан Степанович Шиян, награжден двумя орденами Красной звезды и медалью «За отвагу». Я с ним горя не знал, он был старше меня и опытнее, меня многому научил. Мне года 23 было, ему 26-27. Идем с ним на боевые, я первый раз попал в такую обстановку: зеленка, кишлак. Я представлял войну по уставу: вот карта, вот противник… А он мне: товарищ старший лейтенант, что-то сильно тихо, давайте-ка зайдем в первый дувал (глинобитный забор высотой 2-3 м вокруг жилых двориков. – Ред.). И чем быстрее зайдем, тем лучше. Я такой: да тишина же, вон кишлак кончается, идем как планировали. Он настоял. И только мы зашли, как началась стрельба – только свист пуль!
Рядовые и сержанты проводили в Афгане, как правило, 18 месяцев после полугода учебки (в Узбекистане и Литве), стрелков для ВДВ учили в учебном центре в Фергане. Боеприпасов не жалели. Если на контрольное упражнение давалось 40 патронов, то обученные бойцы отстреливали по 4 целям 9-12 патронами. Вот такая выучка. И это благодаря тому, что во главе угла стояла боевая и тактическая подготовка, а не, условно говоря, обязанность плац драить зубной щеткой. Велась и целенаправленная идеологическая работа. После полугода обучения практически 100 процентов бойцов выражали готовность ехать в Афган. И это не заслуга только замполитов. Солдат учили преодолевать себя, будущие тяготы. Например, по горам ходить тяжело, так в учебке им нагружали десантные рюкзаки РД песком, камнями… Сначала 10-15 кг, потом до 30. Но если боец выдерживает полевой выход в горах с подобной ношей, он уже перестает сомневаться в своих возможностях, чувствует, что может себя переломить. И тогда он готов испытать себя в реальных боевых условиях. Это даже азарт! В 18 лет нет страха перед смертью. Физически сложно себе представить такую ситуацию – расставание с жизнью.
- Испугаться может каждый. Но один испугался – и все равно выполняет задачу. А другой станет столбом…
…У меня был замкомвзвода из Львова, старшина Степан Степанович Шиян, награжден двумя орденами Красной звезды и медалью «За отвагу». Я с ним горя не знал, он был старше меня и опытнее, меня многому научил. Мне года 23 было, ему 26-27. Идем с ним на боевые, я первый раз попал в такую обстановку: зеленка, кишлак. Я представлял войну по уставу: вот карта, вот противник… А он мне: товарищ старший лейтенант, что-то сильно тихо, давайте-ка зайдем в первый дувал (глинобитный забор высотой 2-3 м вокруг жилых двориков. – Ред.). И чем быстрее зайдем, тем лучше. Я такой: да тишина же, вон кишлак кончается, идем как планировали. Он настоял. И только мы зашли, как началась стрельба – только свист пуль!
Рядовые и сержанты проводили в Афгане, как правило, 18 месяцев после полугода учебки (в Узбекистане и Литве), стрелков для ВДВ учили в учебном центре в Фергане. Боеприпасов не жалели. Если на контрольное упражнение давалось 40 патронов, то обученные бойцы отстреливали по 4 целям 9-12 патронами. Вот такая выучка. И это благодаря тому, что во главе угла стояла боевая и тактическая подготовка, а не, условно говоря, обязанность плац драить зубной щеткой. Велась и целенаправленная идеологическая работа. После полугода обучения практически 100 процентов бойцов выражали готовность ехать в Афган. И это не заслуга только замполитов. Солдат учили преодолевать себя, будущие тяготы. Например, по горам ходить тяжело, так в учебке им нагружали десантные рюкзаки РД песком, камнями… Сначала 10-15 кг, потом до 30. Но если боец выдерживает полевой выход в горах с подобной ношей, он уже перестает сомневаться в своих возможностях, чувствует, что может себя переломить. И тогда он готов испытать себя в реальных боевых условиях. Это даже азарт! В 18 лет нет страха перед смертью. Физически сложно себе представить такую ситуацию – расставание с жизнью.
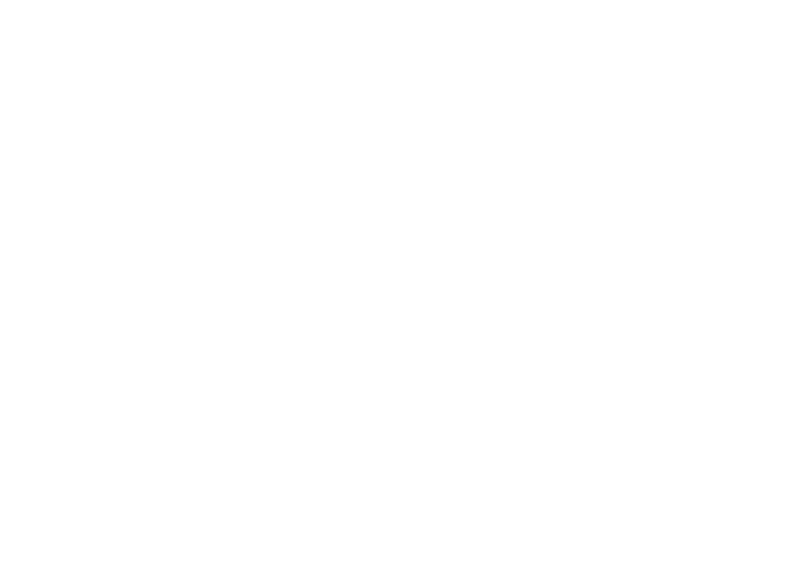 | 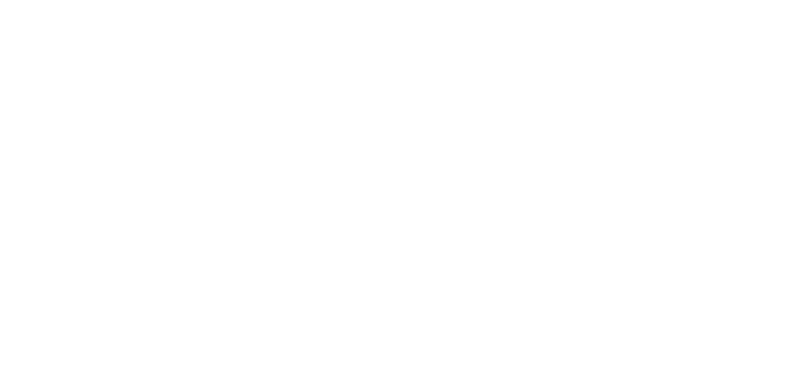 | 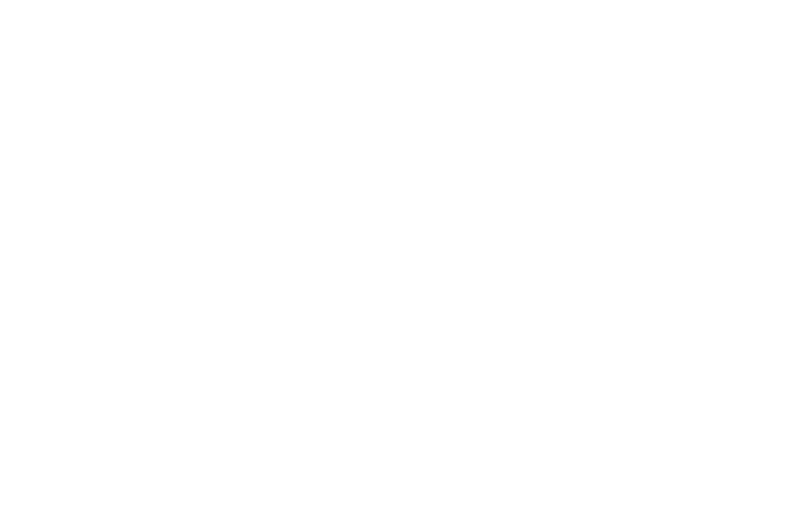 |
О потерях и попадании в плен
- Потери, конечно, были – куда без них? Но цинковые гробы мы не отправляли. В Кабуле, Шинданте, Кундузе были морги. Туда привозили все трупы вертолетами или броней, проводили опознание, переодевали и отправляли бортом в цинке в Ташкент. Родным сообщал военкомат, как правило.
За мой опыт руководства в плен попал один мой подчиненный, москвич. У него, по-моему, просто крыша поехала. Взял автомат и ушел в неизвестном направлении. Через две-три недели его выменяли на местных. Так часто делали. У любого бандита есть родители, братья, сестры, мулла из кишлака. Их вывозили в Кабул и оттуда обменивали на наших.
В каждой роте служил таджик-переводчик. Через него мы понимали, что нам говорят местные. В основном в боевых подразделениях были славяне. Некоторые россияне были с мусульманскими корнями. А кто-то только сейчас обратился в ислам: звоню в Омск однополчанину с Новым годом поздравить, а он: мы, мусульмане, это не празднуем. Кто мог подумать? Вообще, вопрос религии не стоял остро. Все были советские.
- Потери, конечно, были – куда без них? Но цинковые гробы мы не отправляли. В Кабуле, Шинданте, Кундузе были морги. Туда привозили все трупы вертолетами или броней, проводили опознание, переодевали и отправляли бортом в цинке в Ташкент. Родным сообщал военкомат, как правило.
За мой опыт руководства в плен попал один мой подчиненный, москвич. У него, по-моему, просто крыша поехала. Взял автомат и ушел в неизвестном направлении. Через две-три недели его выменяли на местных. Так часто делали. У любого бандита есть родители, братья, сестры, мулла из кишлака. Их вывозили в Кабул и оттуда обменивали на наших.
В каждой роте служил таджик-переводчик. Через него мы понимали, что нам говорят местные. В основном в боевых подразделениях были славяне. Некоторые россияне были с мусульманскими корнями. А кто-то только сейчас обратился в ислам: звоню в Омск однополчанину с Новым годом поздравить, а он: мы, мусульмане, это не празднуем. Кто мог подумать? Вообще, вопрос религии не стоял остро. Все были советские.
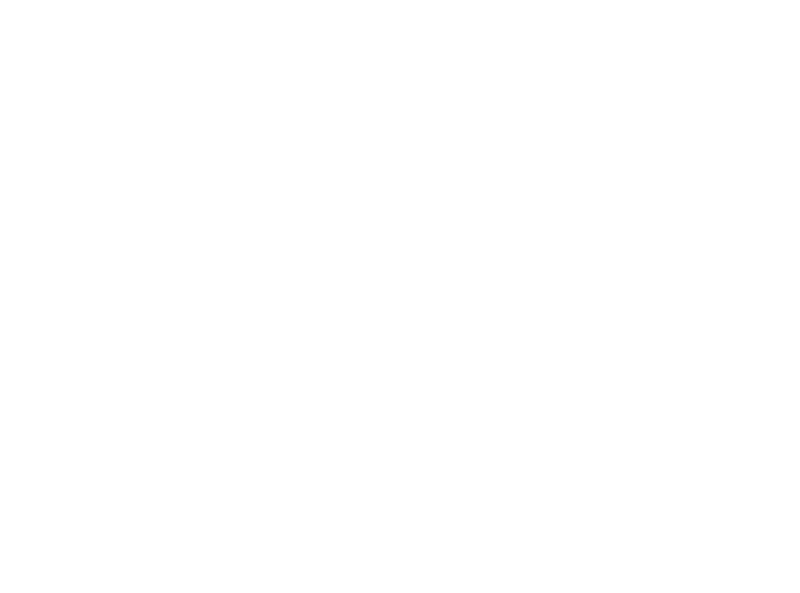 | 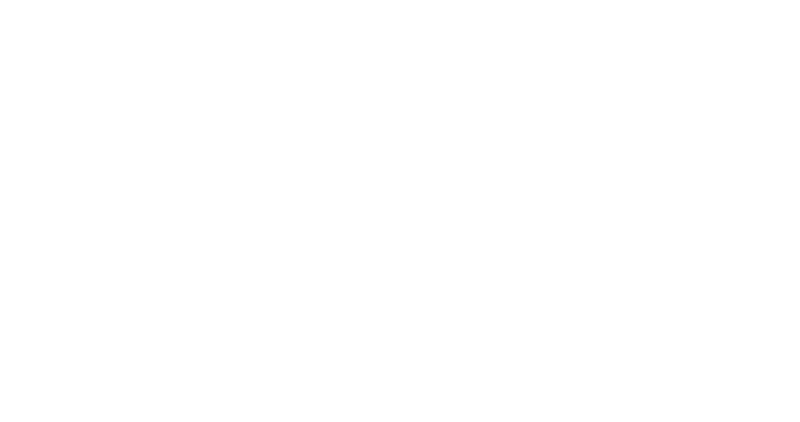 | 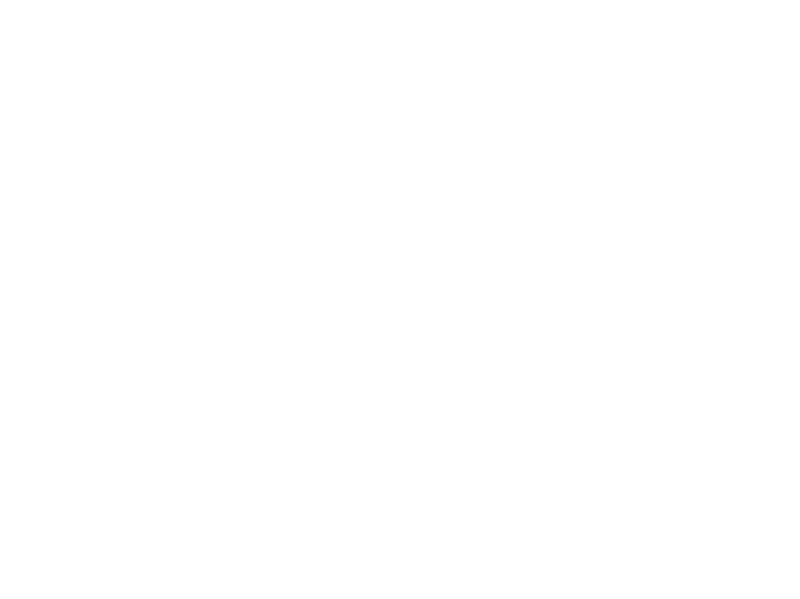 |
О ранении и чеках для «Ивушки»
- Мы выходили из боевых действий. В определенном порядке подразделения покидают позиции, прикрывая друг друга. Подорвался солдат, перевязывали, выносили – и сам я наступил на противопехотную мину. Было утро, часов 7-8. Вертолет за нами прилетел в 5 вечера… Всегда на боевых выходах есть военврач. Но это после того, как тебя вынесут. А до того первую помощь оказывает тот, кто рядом с тобой. Или сам себе. У офицера на каждого солдата было по тюбику промедола (мощный анальгетик. – Ред.). Если ранение, вкалывают тюбик. Затупляет боль, просветляет мысли, снимает нервное напряжение. Если одного тюбика мало, колют второй. Я себе первый тюбик уколол сам…
К 6 вечера был на аэродроме в Джелалабаде. Там стояли палатки, полевая хирургия на потоке. Меня прооперировали, остался без ноги чуть ниже колена. За легкое ранение или контузию платили 150 рублей, тяжелое ранение – 3 должностных оклада. Для меня это 750 рублей.
В среднем советский офицер получал около 300 чеков. Если в Союз приедешь, то на черном рынке (например, возле «Ивушки») платили за чеки 2-3 номинала. В Фергане платили по 2, но там и офицеров с чеками было много. А в Архангельской области покупали и по 3, если кому надо было. Я на свои чеки купил большой двухкассетник «Шарп», с автореверсом, эквалайзером, он и сейчас работает.
…После ранения служить дальше «по прямому назначению» не можешь, не в состоянии прыгать с солдатами вместе, заниматься в поле, а офицер всегда должен быть рядом с теми, кого учит и кем управляет. Солдатом нельзя управлять по радиостанции. Командир полка способен на дистанции управлять подразделениями, но никак не солдатами.
- Мы выходили из боевых действий. В определенном порядке подразделения покидают позиции, прикрывая друг друга. Подорвался солдат, перевязывали, выносили – и сам я наступил на противопехотную мину. Было утро, часов 7-8. Вертолет за нами прилетел в 5 вечера… Всегда на боевых выходах есть военврач. Но это после того, как тебя вынесут. А до того первую помощь оказывает тот, кто рядом с тобой. Или сам себе. У офицера на каждого солдата было по тюбику промедола (мощный анальгетик. – Ред.). Если ранение, вкалывают тюбик. Затупляет боль, просветляет мысли, снимает нервное напряжение. Если одного тюбика мало, колют второй. Я себе первый тюбик уколол сам…
К 6 вечера был на аэродроме в Джелалабаде. Там стояли палатки, полевая хирургия на потоке. Меня прооперировали, остался без ноги чуть ниже колена. За легкое ранение или контузию платили 150 рублей, тяжелое ранение – 3 должностных оклада. Для меня это 750 рублей.
В среднем советский офицер получал около 300 чеков. Если в Союз приедешь, то на черном рынке (например, возле «Ивушки») платили за чеки 2-3 номинала. В Фергане платили по 2, но там и офицеров с чеками было много. А в Архангельской области покупали и по 3, если кому надо было. Я на свои чеки купил большой двухкассетник «Шарп», с автореверсом, эквалайзером, он и сейчас работает.
…После ранения служить дальше «по прямому назначению» не можешь, не в состоянии прыгать с солдатами вместе, заниматься в поле, а офицер всегда должен быть рядом с теми, кого учит и кем управляет. Солдатом нельзя управлять по радиостанции. Командир полка способен на дистанции управлять подразделениями, но никак не солдатами.
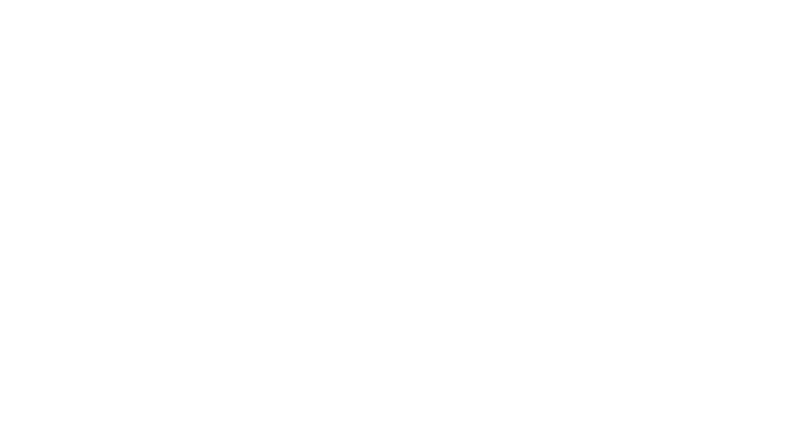
Об отношении местного населения
и «договорных бандах»
- Местные мне запомнились как адекватные люди. Надо понимать, что мы в основном говорим о крестьянах. Были кишлаки, в которых прибегали к нам с рукописной бумажкой, с печатью, о том, что Бабрак Кармаль кого-то наградил за защиту республики. Бывало, просили у нас защиты на случай возможного нападения. Живет в кишлаке человек 300, а мужчин и юношей, способных держать в руках оружие, не больше 50. Нападет банда – куда им деваться? Бывали такие села, которые воевали и против правительства, и против Исламского комитета, то есть против «душков». Или вот такое явление, как «договорная банда». Одни афганские бандиты жалуются советским командирам на других, просят защитить от тех, кто сильнее и злее. Взамен гарантируют проход наших войск по их землям, но без захода в сами кишлаки, по виноградникам, допустим. А другое условие: побьете тех бандитов - всю добычу оставляете нам, забираете только убитых и раненых, если хотите. Вот что такое «договорная банда».
Бывало, идем к душманскому кишлаку, оттуда крики по мегафону: «Русские свиньи! Убирайтесь!» Артиллерия таких быстро успокаивала. А если не помогало, то призывали авиацию. Аэродром близко, значит, топлива штурмовик берет по минимуму, зато боевая нагрузка максимальная. Сделал круг, подавил цели – и на посадку. А в кишлаке тишина…
и «договорных бандах»
- Местные мне запомнились как адекватные люди. Надо понимать, что мы в основном говорим о крестьянах. Были кишлаки, в которых прибегали к нам с рукописной бумажкой, с печатью, о том, что Бабрак Кармаль кого-то наградил за защиту республики. Бывало, просили у нас защиты на случай возможного нападения. Живет в кишлаке человек 300, а мужчин и юношей, способных держать в руках оружие, не больше 50. Нападет банда – куда им деваться? Бывали такие села, которые воевали и против правительства, и против Исламского комитета, то есть против «душков». Или вот такое явление, как «договорная банда». Одни афганские бандиты жалуются советским командирам на других, просят защитить от тех, кто сильнее и злее. Взамен гарантируют проход наших войск по их землям, но без захода в сами кишлаки, по виноградникам, допустим. А другое условие: побьете тех бандитов - всю добычу оставляете нам, забираете только убитых и раненых, если хотите. Вот что такое «договорная банда».
Бывало, идем к душманскому кишлаку, оттуда крики по мегафону: «Русские свиньи! Убирайтесь!» Артиллерия таких быстро успокаивала. А если не помогало, то призывали авиацию. Аэродром близко, значит, топлива штурмовик берет по минимуму, зато боевая нагрузка максимальная. Сделал круг, подавил цели – и на посадку. А в кишлаке тишина…
Афганская байка
Был у меня во взводе механик-водитель. И так кропотливо относился к своим служебным обязанностям, что душа не могла нарадоваться. После каждого марша с редким рвением принимался за ТО машины, откручивал десятки болтов, чтобы открыть крышку силового отделения. Все отдыхают, а он пашет. Всегда ставил его в пример, пока кто-то не шепнул: неспроста он так любит в моторном отсеке ковыряться. Он туда, оказалось, 20-литровую канистру прятал, зальет водой все что под руку попадет – конфеты, хлеб и т.п. Температура под «капотом» - градусов под 100, тряска неминуема, вот и получается после боевого марша литров 17 браги. На взвод не так и много, но солдату любая «расслабуха» в кайф… Это дело мы пресекли.
О «показной» жестокости и «дедовщине»
- В чем смысл «раскатать» какой-то кишлак? В армейской системе строгая иерархия. Чтобы артиллерией или авиацией «раскатать» кишлак, нужны весомые причины. Какие? Например, взвод попал в окружение, надо вытащить своих. Тогда ведется массированный огонь, чтобы отогнать противника и получить доступ к окруженцам. Или ты добьешься своего, или отдавай солдата или солдат. А так, чтоб просто приехать на танке и пальнуть по кишлаку… Тебя же свои комитетчики строго спросят. А если там и мужчин в то время не было, одни бабы да ребятишки? Придут муллы, старейшины, пожалуются командованию: что ваши творят? Мы с вами не воюем, а вы то-то и то-то. И тут уже партийная комиссия, звездочки летят, выговоры и прочее, прочее, прочее.
«Дедовщина» была своеобразная. Те, кто ходит в горы, куда выше по воинской касте, чем те, кто ходит на боевые, но остается «на броне». Даже самый молодой по призыву, если он хоть раз сходил в горы на боевые, становился на верхнюю ступеньку солдатской иерархии, ему ни один «дембель» ничего сделать не мог. Так только, под маркой «не в службу, а в дружбу» могли попросить об услуге. И если «дембель» ходит с молодым в горы, то в части он его защищал. Конечно, у тех, кто служил в комендатуре или в других более спокойных местах, случалось и по-другому.
- В чем смысл «раскатать» какой-то кишлак? В армейской системе строгая иерархия. Чтобы артиллерией или авиацией «раскатать» кишлак, нужны весомые причины. Какие? Например, взвод попал в окружение, надо вытащить своих. Тогда ведется массированный огонь, чтобы отогнать противника и получить доступ к окруженцам. Или ты добьешься своего, или отдавай солдата или солдат. А так, чтоб просто приехать на танке и пальнуть по кишлаку… Тебя же свои комитетчики строго спросят. А если там и мужчин в то время не было, одни бабы да ребятишки? Придут муллы, старейшины, пожалуются командованию: что ваши творят? Мы с вами не воюем, а вы то-то и то-то. И тут уже партийная комиссия, звездочки летят, выговоры и прочее, прочее, прочее.
«Дедовщина» была своеобразная. Те, кто ходит в горы, куда выше по воинской касте, чем те, кто ходит на боевые, но остается «на броне». Даже самый молодой по призыву, если он хоть раз сходил в горы на боевые, становился на верхнюю ступеньку солдатской иерархии, ему ни один «дембель» ничего сделать не мог. Так только, под маркой «не в службу, а в дружбу» могли попросить об услуге. И если «дембель» ходит с молодым в горы, то в части он его защищал. Конечно, у тех, кто служил в комендатуре или в других более спокойных местах, случалось и по-другому.
Афганская байка
В горах на войне у солдат были маленькие радости. Наши парни себя радовали к дням рожденья или другим поводам: пекли из подручных продуктов слоеные торты. Брали пустой инк из-под патронов, на него клали галеты, входившие в паек, перекладывали их сгущенным молоком, и так в несколько слоев. Будили именинника и вручали ему. Так что миф о всеобщей озлобленности людей на войне могу опровергнуть.
О хвастовстве боевой доблестью
и об «огнестрельном ушибе»
- Основное поражение врагу всегда наносили артиллерия и авиация. Если вступать в контактный бой на автоматах, то неминуемо проиграешь: они местные, каждую щель знают. Очередь дали, спрятались. В дувале небольшое отверстие, только ствол автоматный проходит. Как тут отстреливаться? Я за всю свою практику видел всего один труп, который они с собой унести не успели. Тогда случайно на 2-й взвод нашей роты вышли в горах душманы, а солдаты заметили их, открыли огонь, бросили гранату. В результате вдесятером (!) завалили одного. А не то, что кто-то двоих уложит одной очередью. Может, у кого-то и бывало, но я не видел.
…Шли по зеленке между дувалами. Т-образный перекресток: выйдешь на него – и ты открыт, могут обстрелять с любого направления. Шиян говорит: товарищ старший лейтенант, давайте через пролом в стене свернем, по виноградникам обойдем сзади. Там идешь между двух отвалов, частично закрыт, что и спасло. А «душки» прятались, ждали нас за поворотом. Они нас автоматным огнем шуганули, мы в ответ - из гранатомета «Муха»… Так и разошлись. Одному нашему пуля прошла по спине, по бронежилету, полоска на коже осталась. Выручило то, что рюкзак был тяжелый, он голову вниз прижал. Военврач потом с диагнозом никак не мог определиться: вроде бы пуля, огнестрельное ранение, но ранения как такового нет. В итоге поставил: «огнестрельный ушиб». Засчитали как легкое ранение.
и об «огнестрельном ушибе»
- Основное поражение врагу всегда наносили артиллерия и авиация. Если вступать в контактный бой на автоматах, то неминуемо проиграешь: они местные, каждую щель знают. Очередь дали, спрятались. В дувале небольшое отверстие, только ствол автоматный проходит. Как тут отстреливаться? Я за всю свою практику видел всего один труп, который они с собой унести не успели. Тогда случайно на 2-й взвод нашей роты вышли в горах душманы, а солдаты заметили их, открыли огонь, бросили гранату. В результате вдесятером (!) завалили одного. А не то, что кто-то двоих уложит одной очередью. Может, у кого-то и бывало, но я не видел.
…Шли по зеленке между дувалами. Т-образный перекресток: выйдешь на него – и ты открыт, могут обстрелять с любого направления. Шиян говорит: товарищ старший лейтенант, давайте через пролом в стене свернем, по виноградникам обойдем сзади. Там идешь между двух отвалов, частично закрыт, что и спасло. А «душки» прятались, ждали нас за поворотом. Они нас автоматным огнем шуганули, мы в ответ - из гранатомета «Муха»… Так и разошлись. Одному нашему пуля прошла по спине, по бронежилету, полоска на коже осталась. Выручило то, что рюкзак был тяжелый, он голову вниз прижал. Военврач потом с диагнозом никак не мог определиться: вроде бы пуля, огнестрельное ранение, но ранения как такового нет. В итоге поставил: «огнестрельный ушиб». Засчитали как легкое ранение.
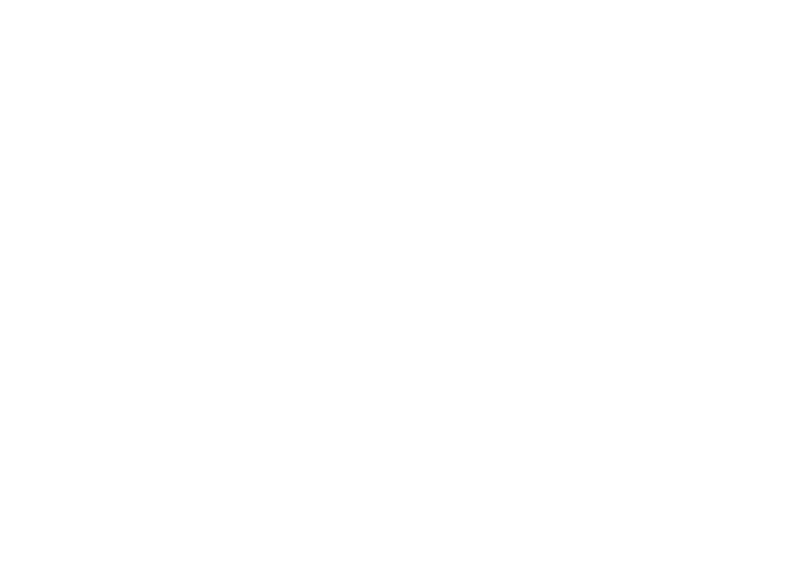 | 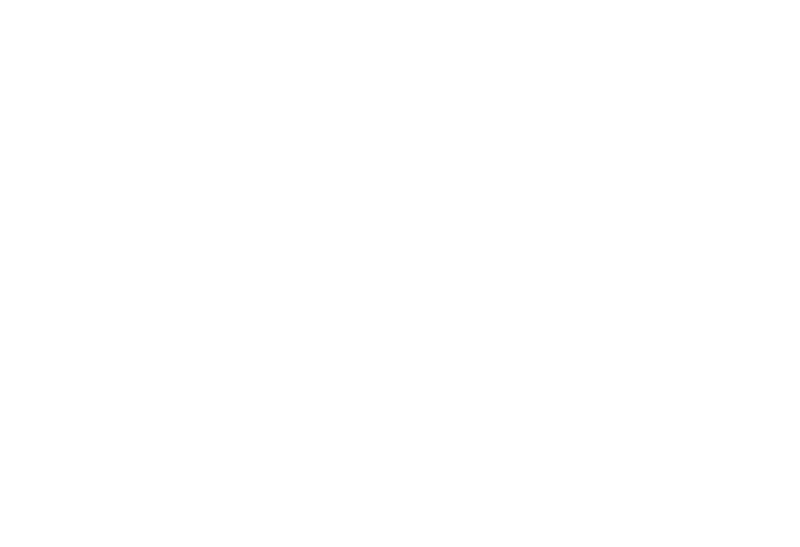 | 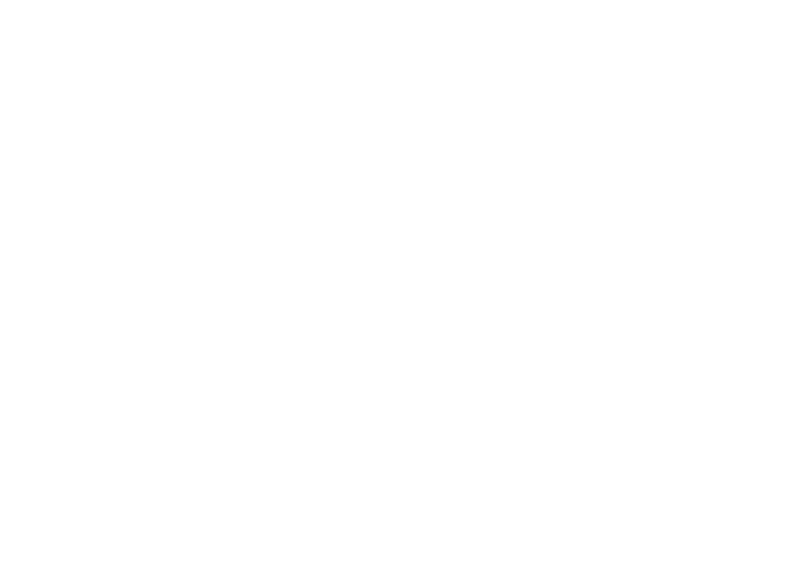 | 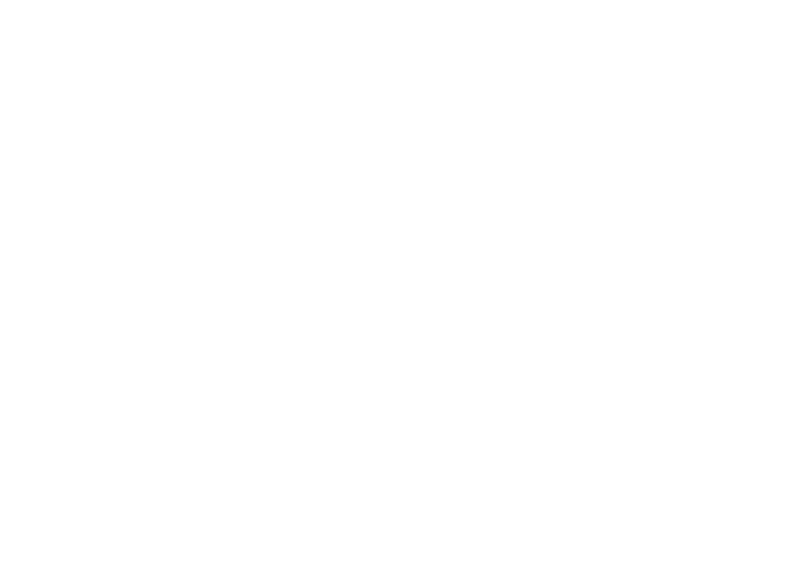 | 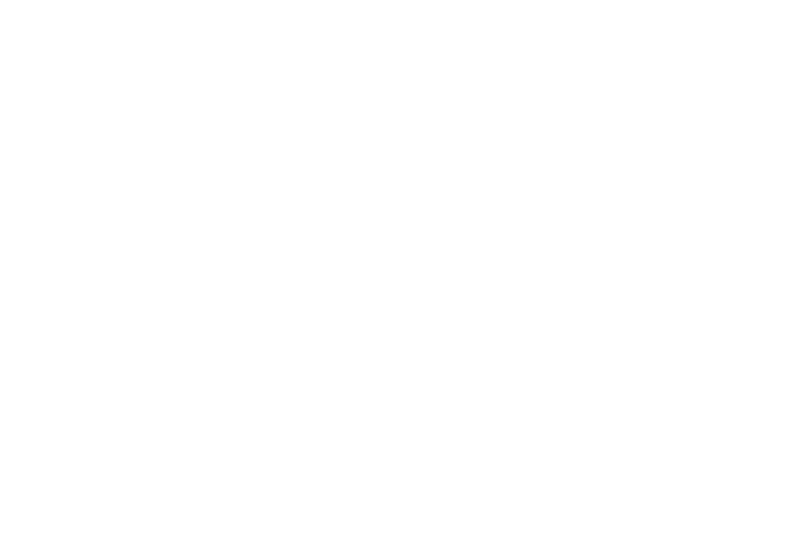 | 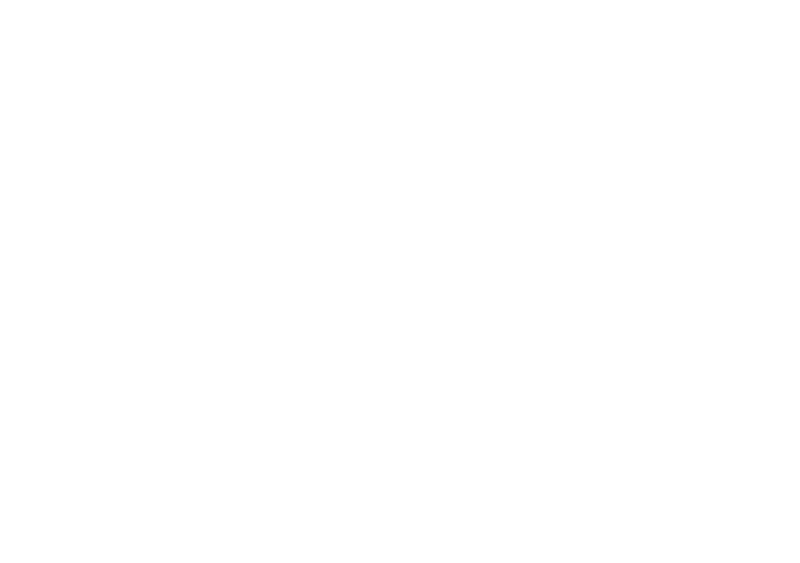 | 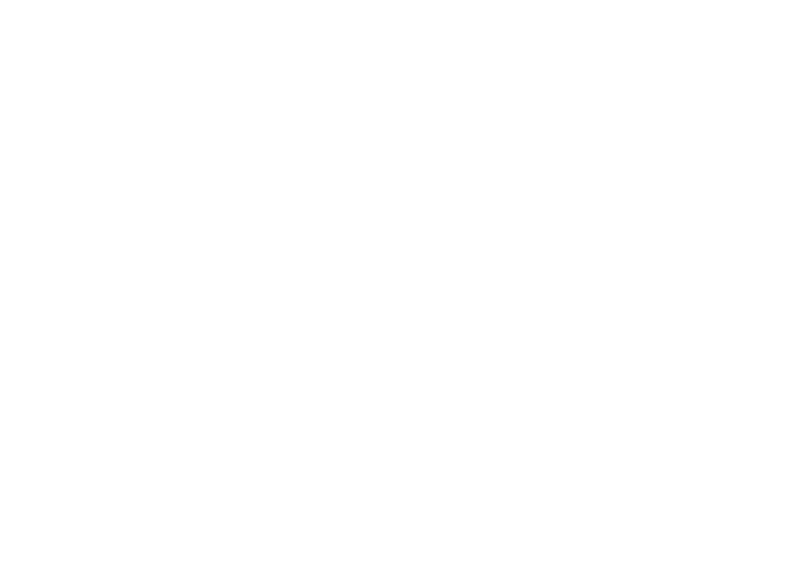 |
Об «афганской идее» и отмененных льготах
- Возможно, когда-то она и была. Теперь нету. Когда вывели войска, у нас было желание объединиться, создать что-то хорошее, оказывать друг другу помощь, двигаться вперед. Но никто не сформулировал это четко. Люди были нервные, взбудораженные. Воспринимали так, что один рискует жизнью в горах, а другой, его сверстник, ходит по кабакам и дискотекам. Это противоречие у многих было заострено, что порождало кризисные ситуации. И важно было дать хотя бы моральную поддержку. Материально государство в первое время не обижало: давало льготы, жилье, работу, помощь при поступлении в вузы. Я приехал в Беларусь в апреле 1988 года. Тогдашний райвоенком Дривицкий принял участие в моей судьбе. А в августе мне с семьей уже дали двухкомнатную квартиру на «Востоке».
Одноногим, как я, выдали автомобили «Таврия» (в 1990 году их на всю Беларусь раздали 112, если не ошибаюсь). И в 21-м веке такого не повторилось, хотя с годами больше нас, инвалидов Афгана, не становится. И «Таврии» далеко не «Мерседес», чтоб ездить вечно. Многие афганцы пошли во власть, вышли на республиканский или союзный уровень. Афганцы были востребованы, это была сила. Сейчас мы востребованы только в том случае, когда что-то надо власти. Люди постарели, успокоились, а лидера, как в свое время в Беларуси был Юрий Анатольевич Батян, теперь нет. Даже в России не отменили тех льгот, что были при Союзе. А в Беларуси отменили. Дали бы хоть кредит на длительный срок, под разумные проценты… С другой стороны, хамства в духе «я тебя в Афганистан не посылал» - тоже в свой адрес не слышу. Мне с людьми повезло.
Протез? Мне доктор в Израиле в 1992 году сказал, что он прослужит 14 лет. Но менять его нужно раз в два-три года. Это, конечно, в идеале. А в реальности так и получилось, что протез сломался спустя ровно 14 лет, в 2006-м. А белорусский протез вместо него прослужил полгода. Ну как такое может быть? Нашел народного умельца, который мне подремонтировал без всякой записи, очередей и пр. И платы не взял. А официально делать – прийти, записаться, ждать, пока тебя вызовут… И все это время без протеза.
- Возможно, когда-то она и была. Теперь нету. Когда вывели войска, у нас было желание объединиться, создать что-то хорошее, оказывать друг другу помощь, двигаться вперед. Но никто не сформулировал это четко. Люди были нервные, взбудораженные. Воспринимали так, что один рискует жизнью в горах, а другой, его сверстник, ходит по кабакам и дискотекам. Это противоречие у многих было заострено, что порождало кризисные ситуации. И важно было дать хотя бы моральную поддержку. Материально государство в первое время не обижало: давало льготы, жилье, работу, помощь при поступлении в вузы. Я приехал в Беларусь в апреле 1988 года. Тогдашний райвоенком Дривицкий принял участие в моей судьбе. А в августе мне с семьей уже дали двухкомнатную квартиру на «Востоке».
Одноногим, как я, выдали автомобили «Таврия» (в 1990 году их на всю Беларусь раздали 112, если не ошибаюсь). И в 21-м веке такого не повторилось, хотя с годами больше нас, инвалидов Афгана, не становится. И «Таврии» далеко не «Мерседес», чтоб ездить вечно. Многие афганцы пошли во власть, вышли на республиканский или союзный уровень. Афганцы были востребованы, это была сила. Сейчас мы востребованы только в том случае, когда что-то надо власти. Люди постарели, успокоились, а лидера, как в свое время в Беларуси был Юрий Анатольевич Батян, теперь нет. Даже в России не отменили тех льгот, что были при Союзе. А в Беларуси отменили. Дали бы хоть кредит на длительный срок, под разумные проценты… С другой стороны, хамства в духе «я тебя в Афганистан не посылал» - тоже в свой адрес не слышу. Мне с людьми повезло.
Протез? Мне доктор в Израиле в 1992 году сказал, что он прослужит 14 лет. Но менять его нужно раз в два-три года. Это, конечно, в идеале. А в реальности так и получилось, что протез сломался спустя ровно 14 лет, в 2006-м. А белорусский протез вместо него прослужил полгода. Ну как такое может быть? Нашел народного умельца, который мне подремонтировал без всякой записи, очередей и пр. И платы не взял. А официально делать – прийти, записаться, ждать, пока тебя вызовут… И все это время без протеза.
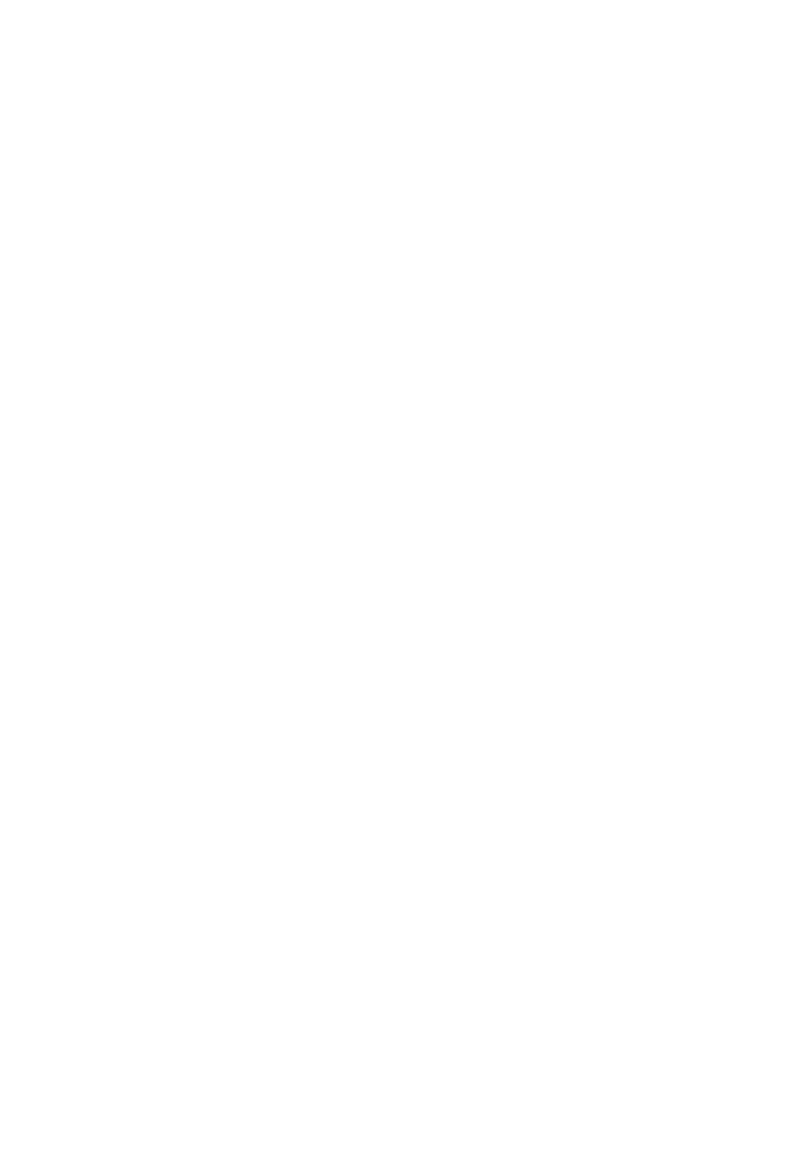 | 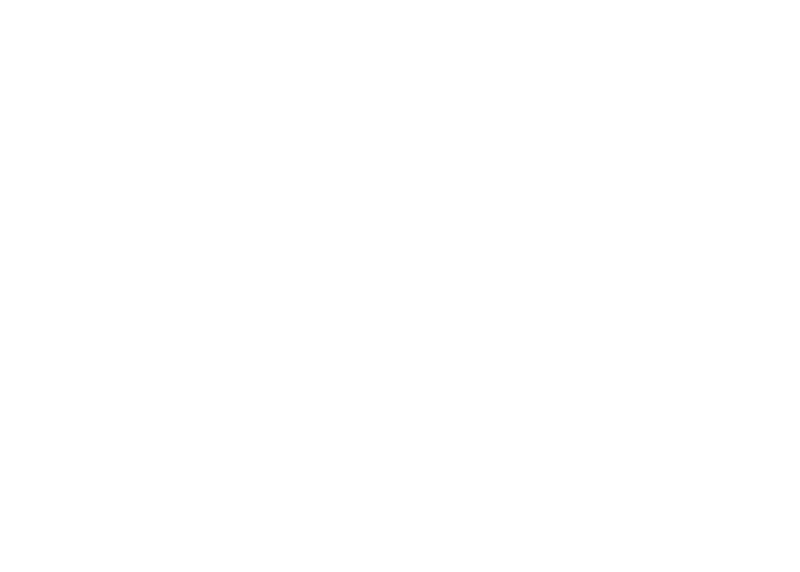 | 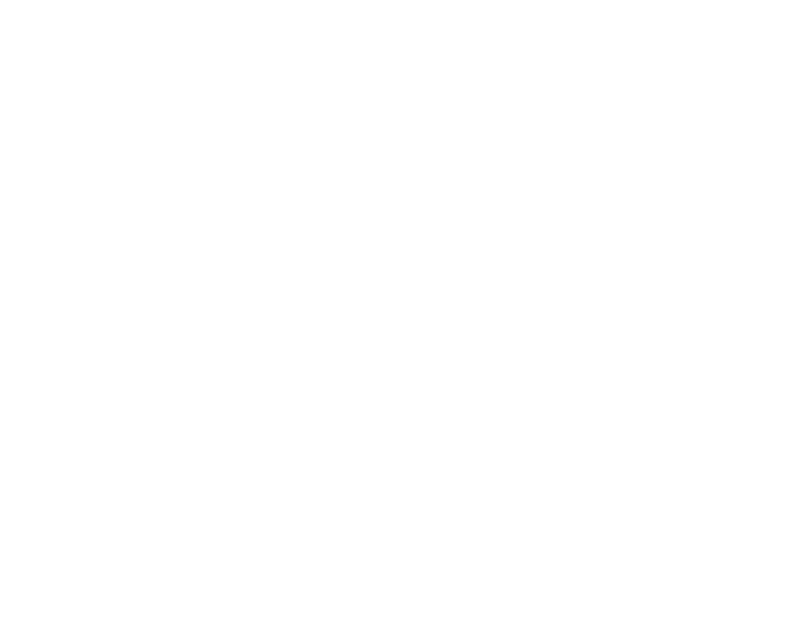 | 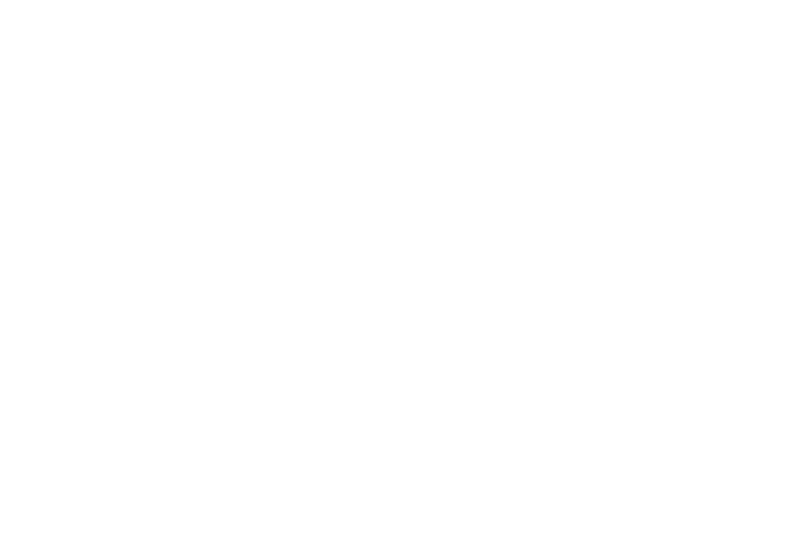 | 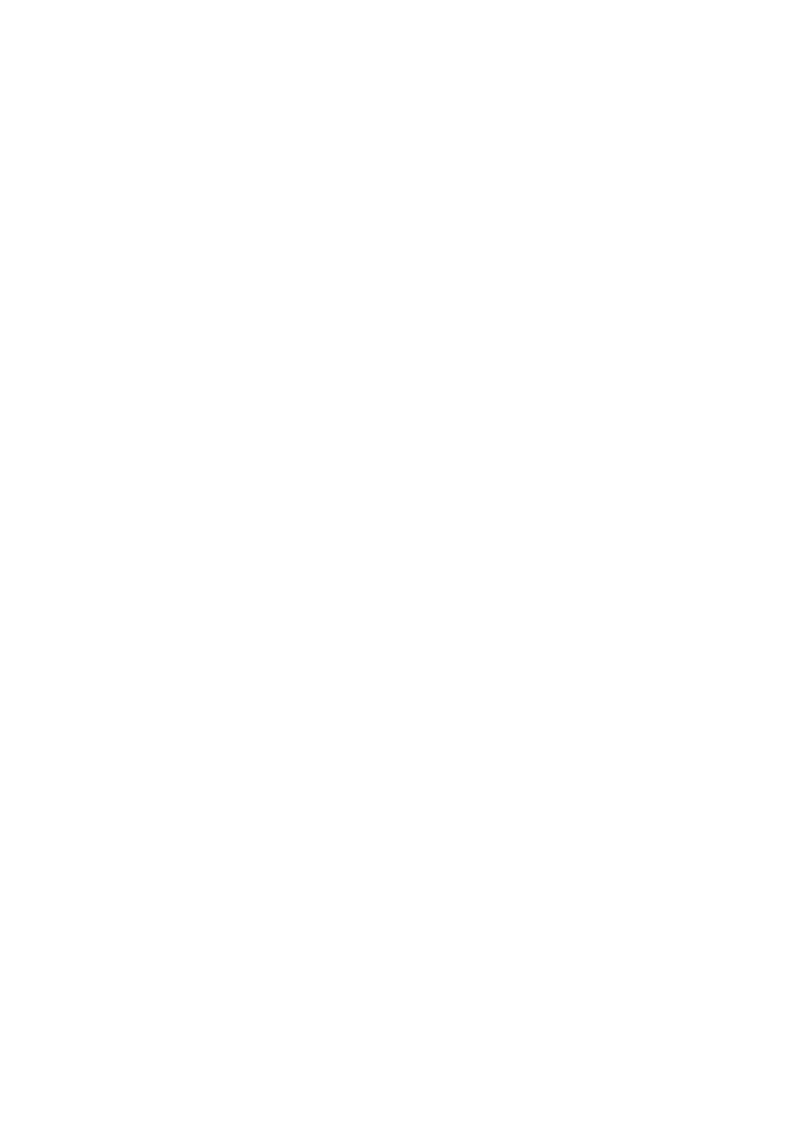 |
Об испытаниях мирного времени
Всё зависит от воспитания и от того, что у тебя в голове. От компании, опять же, от коллектива. Один ломается, другой – хлюпик хлюпиком, а держится. Не бывает жизни без сомнений. Но Бог простил, через все провел. Привычка руководить? Это что, такое важное дело, что, один раз где-то поруководив, нельзя опускаться на землю? Каждая жизненная ситуация определяет судьбу заново. И сам можешь выбирать.
Всё зависит от воспитания и от того, что у тебя в голове. От компании, опять же, от коллектива. Один ломается, другой – хлюпик хлюпиком, а держится. Не бывает жизни без сомнений. Но Бог простил, через все провел. Привычка руководить? Это что, такое важное дело, что, один раз где-то поруководив, нельзя опускаться на землю? Каждая жизненная ситуация определяет судьбу заново. И сам можешь выбирать.
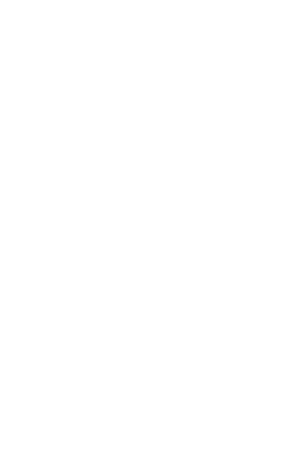 | 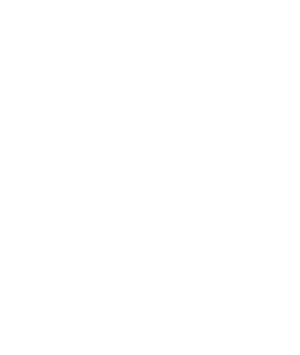 | 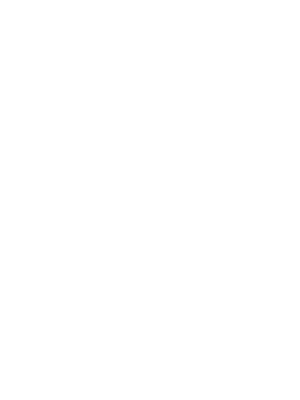 |
О том, как вспоминается Афган 30 лет спустя
- Золотое время. Работал по своей специальности. Был нужен своей стране, своему народу (во всяком случае я так себе представлял), защищал их интересы. Я не думал ни о чем, кроме службы. Досрочно получил воинское звание. Мы все были молоды, здоровы. Ощущали свою полезность и незаменимость. Имели авторитет, за нами была целая могучая страна. Сам я из России, жена из Узбекистана, один сын родился в Узбекистане, другой – в Беларуси. Потом в Бресте меня заставляли повторно принимать присягу на верность новому государству, и я понял, что это не мое. Тот полковник, который за пару месяцев до того орал на политзанятиях, что у нас единая страна, неделимая, говорит, что мне надо новую присягу принимать. Нет - тогда увольняйся. Я и уволился по болезни…
- Золотое время. Работал по своей специальности. Был нужен своей стране, своему народу (во всяком случае я так себе представлял), защищал их интересы. Я не думал ни о чем, кроме службы. Досрочно получил воинское звание. Мы все были молоды, здоровы. Ощущали свою полезность и незаменимость. Имели авторитет, за нами была целая могучая страна. Сам я из России, жена из Узбекистана, один сын родился в Узбекистане, другой – в Беларуси. Потом в Бресте меня заставляли повторно принимать присягу на верность новому государству, и я понял, что это не мое. Тот полковник, который за пару месяцев до того орал на политзанятиях, что у нас единая страна, неделимая, говорит, что мне надо новую присягу принимать. Нет - тогда увольняйся. Я и уволился по болезни…
Записал Александр СЕДНЕВ
ФОТО из личного архива Николая ШКУЛЁВА
ФОТО из личного архива Николая ШКУЛЁВА
© Все права защищены. «Редакция газеты «Вечерний Брест» ООО
Воспроизведение или перепечатка информации, принадлежащей «Вечернему Бресту», допускается только при условии активной ссылки.
По всем вопросам пишите на e-mail: info@vb.by

